Дальше пошел разговор о постройке судна.
Покинув кабинет князя, Невельской не поколебался в намерении убедить князя в необходимости исследования Амура. Ему казалось, что Меншиков хотя и уверял, что это бесполезно, но сам-то он не может не желать исследований устьев Амура. Он, верно, и противится только из-за того, что после кругосветного путешествия не останется времени, а испрашивать на это особых средств не хочет из-за размолвки с министром иностранных дел Нессельроде, с которым Меншиков, как все знали, был не в ладах. К тому же Невельской прекрасно понимал позицию князя — очень похоже было, что втайне князь сочувствует. «Конечно, он должен требовать с меня доставки грузов. Он прав». Невельской решил отложить эту беседу и больше не являться в Главный морской штаб с пустыми руками и с фантазиями.
Он спустился в кораблестроительную часть, где его, как командира строящегося судна, ждали дела. Закончив их, Невельской выехал в гавань.
Когда пролетка, гремя по обмерзшим камням набережной, проезжала мимо памятника Петру, во мгле над крышами стояло красное низкое солнце, и Невельской невольно вспомнил, как еще в детстве узнал мысли Петра о важном значении реки Амура для России, как потом увлекся историей, добыл записки первых русских завоевателей Сибири, описание подвигов Хабарова и войны на Амуре, как постепенно возникала в его уме картина русской жизни в Приамурье два века тому назад.
Вспомнил он, как мальчиком стоял на террасе со старой подзорной трубой в руках и, глядя на костромские леса, воображал себя на капитанском мостике у африканских берегов, как впервые увидел он Волгу и как затрепетало его сердце, когда на реке шла простая барка с парусом...
И дальше — Петербург, корпус, мечты, мечты у карты, у атласа, чтение, разговоры с товарищами, годы надежд и ожиданий. Мысли возвращались к Амуру. Памятник Петра был высеченным из камня напоминанием о том, что на Востоке для России нужно прорубить окно в мир, к Великому океану.
Возница свернул мимо Сената. Желтых стен морских канцелярий Адмиралтейства теперь не стало видно за площадью, залитой туманом, из которого кое-где проступали черные, голые деревья. Над ними на огромной высоте сверкнула огненная трещина. Это на солнце сквозь мглу проступил и зазолотился шпиль Адмиралтейства.
На юте «Авроры» — адмирал Литке и капитан Мофет. Оба в клеенчатых плащах и фуражках. Тут же рулевой матрос, большой, безмолвный и послушный, как часть штурвала.
Сумерки. Низкое мохнатое небо. Серое небо, черно-серое море, слабый дождь. Мерные удары тяжелых волн через равные промежутки времени.
Этот дождь и противный курсу ветер продолжаются неделю.
Рядом с адмиралом стоит высокий светлый мальчик лет пятнадцати. Он одет в матросский бушлат и парусиновые штаны.
Мерное покачивание судна. Редко-редко море выбросит на палубу тяжелую волну.
Адмирал и капитан в высоких капюшонах, и светлый мальчик-матрос, и огромный рулевой выглядели в этот ровный шторм как рыцари в осажденном замке.
Быстро подходит молодой лейтенант. Он откуда-то из серой мглы, оттуда, где бак, где впередсмотрящий, где делают промеры, где матросы прячутся от ветра, или что-то ворочают, связывают, плетут, или чистят, или курят, прижавшись плечом к товарищу. Где смола и бухты канатов, где кнехты[62], где люди, привычные к этому серому морю. Там все время идет какая-то мерная и почти невидимая работа, похожая на возню, и кажется, что эти люди, как рабы, тащат на себе судно, а не высокие и торжественные паруса, распустившиеся, как облака, над палубой.
— Виден датский берег! — говорит лейтенант, обращаясь к капитану и адмиралу.
Капитан молчит.
— Близок датский берег, ваше высочество! — назидательно и с почтением говорит усатый рыцарь-адмирал, обращаясь к мальчику.
— Прекрасно, Федор Петрович! — раздается в ответ. Его высочеству скучно. Датский берег — это все-таки что-то новое. Шведский берег давно надоел. Мальчик переводит взор на лейтенанта с надеждой, не скажет ли Геннадий Иванович еще что-нибудь интересное. Но Геннадий Иванович занят чем-то; не до того...
Адмирал дает мальчику подзорную трубу. Константин смотрит, улыбается. Он смотрит долго, словно хочет рассмотреть, найти на серой полоске Копенгаген или Эльсинор... Но нет ни столицы, ни замка Гамлета. Он проводит трубой по горизонту, поворачивается лицом к корме, смотрит туда, где на востоке волны и тьма слились, потом для развлечения наводит подзорную трубу прямо на борт, на снасти, себе на растопыренные пальцы.
А рыцари в капюшонах все так же холодно и непоколебимо глядят вперед, лицами на ветер.
— Будем рифить[63], Федор Петрович, — говорит высокий, худой капитан.
— Да, ветер крепчает.
— В Зунд не пойдем! Надо уходить в море.
Серое море, кажется, разразится сегодня ночью бурей.
— Лево руля! — приказывает капитан.
Матрос-громадина и огромный штурвал заработали, застучал трос под палубой. Волна ударила в борт, судно накренилось.
— Лейтенант Невельской! — торжественно, словно такое приказание не отдается помногу раз ежедневно, говорит рыцарь-капитан. — Поднять подвахтенных!..
И вот затопали намокшие сапоги вахтенных, соскакивают с коек и бегут наверх подвахтенные.
— Ваше высочество! — вытягиваясь, обращается Невельской к мальчику. Тот отдает трубу рыцарю-адмиралу и вытягивает руки по швам.
— Пошел все наверх! — приказывает лейтенант. И мальчик с удовольствием, как в забавной игре, кидается во мглу, подчиняясь этому грубому окрику.
Он подбегает к грот-мачте. Сюда же подходит лейтенант — он как дрессировщик, у которого в руке кнут. Он смотрит жестко и требовательно. Матрос, один из многих, такой же, как все на этом корабле, куда отобраны из всего флота самые лучшие и сильные, быстро привязывает конец от своего пояса к поясу великого князя.
— Пшел рифить грот[64]! — приказывает лейтенант.
И матрос с мальчиком быстро, как кошки, бегут вверх, к серым тучам. Стоя на канате, навалясь животом на рею, с подспинником мальчик работает наверху.
Холодные взоры рыцарей стали теплей и человечней. Они тоже устремлены на грот-мачту, как и взоры лейтенанта и боцмана. А люди там, как и на фок-мачте и на бизани, разбежались, работают, теперь их видно всех, всех, кто не закрыт парусами.
А море начинает сердиться. Слышится временами глухой грохот.
...А иногда бывало, что его высочество закапризничает: «У меня болит голова, Геннадий Иванович, я не пойду сегодня на вахту! Да, да... пожалуйста... пришлите мне доктора... Я уже говорил Федору Петровичу на занятиях, что мне с утра нездоровится...»
И его высочеству разрешали оставаться в каюте, когда на судне начиналась беготня. Приходил холодный рыцарь-доктор. Мальчик показывал язык... А уходил доктор, и он метался по каюте, ему хотелось читать, но нечего читать, все книги надоели... Писать дневник? Его дневник контролируется учителем. И мальчик кидался лицом в подушку. Геннадий Иванович сменялся с вахты, приходил.
— Войдите! — отвечал на стук Константин. Он всех знал по стуку.
— У меня нет детства! У меня нет детства! Господи! За что это? — истерически кричал мальчик. Потом успокаивался. Лейтенант, как нянька, начинал ему рассказывать разные морские истории.
Но мальчик креп, мужал. Его приучали к морю, обучали и развлекали, как только возможно. И воспитывали волю, характер. Так желал государь.
Одно из плаваний закончилось в Архангельске. Судно встало на зиму в затон, а Федор Петрович Литке поехал с Константином в Петербург санным путем.
В следующую навигацию, в 1845 году, на другом судне, но с теми же учителями, наставниками и с бессменным вахтенным начальником Константин шел по Балтийскому морю. И он все еще не мог забыть, как в одной из деревень зимой пришел к нему оборванный мальчик-крепостной его же возраста, такой же высокий, светловолосый, но с глубоко запавшими, полными тоски глазами. Помещик запорол его отца и постоянно приказывал избивать мальчика. Он знал, что барин хочет извести его, всю семью. Мальчик просил спасти его.
Константин вспыхнул: проступил характер, пылкий, властный.
— Я возьму этого мальчика с собой! Он будет мой! — заявил он наставнику.
Рыцарь-адмирал ответил твердо, что это невозможно. Существует право помещика. Отец крепостного — преступник. Он совершил преступление против помещика. За это наказан. Мальчик — собственность помещика. Государство охраняет право помещика. Его высочество не должен ради чувства жалости нарушать закон.
...Константин разрыдался и долго не мог забыть этого... Даже летом следующей навигации рассказывал своему лейтенанту.
Однажды опять шли в Зунде и в кают-компании говорили о том, что мы закрыты в Балтийском море, что англичане получили теперь у датчан права держать свой флот в их гаванях. Это угроза нам...
![Николай Задорнов - Первое открытие [К океану]](https://cdn.my-library.info/books/179537/179537.jpg)
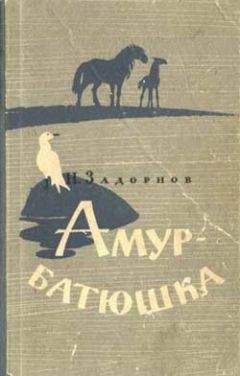

![Николай Задорнов - Первое открытие [К океану]](https://cdn.my-library.info/books/180259/180259.jpg)

